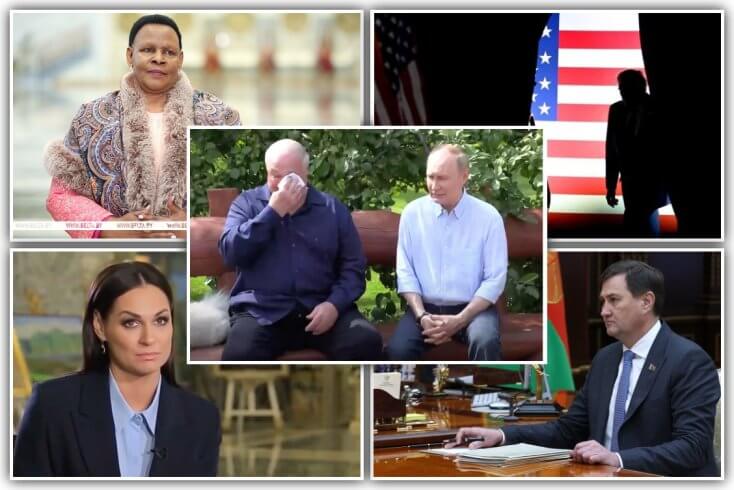Опубликовано на открытой версии “Позірку“ 15 сентября 2025 года в 12:55
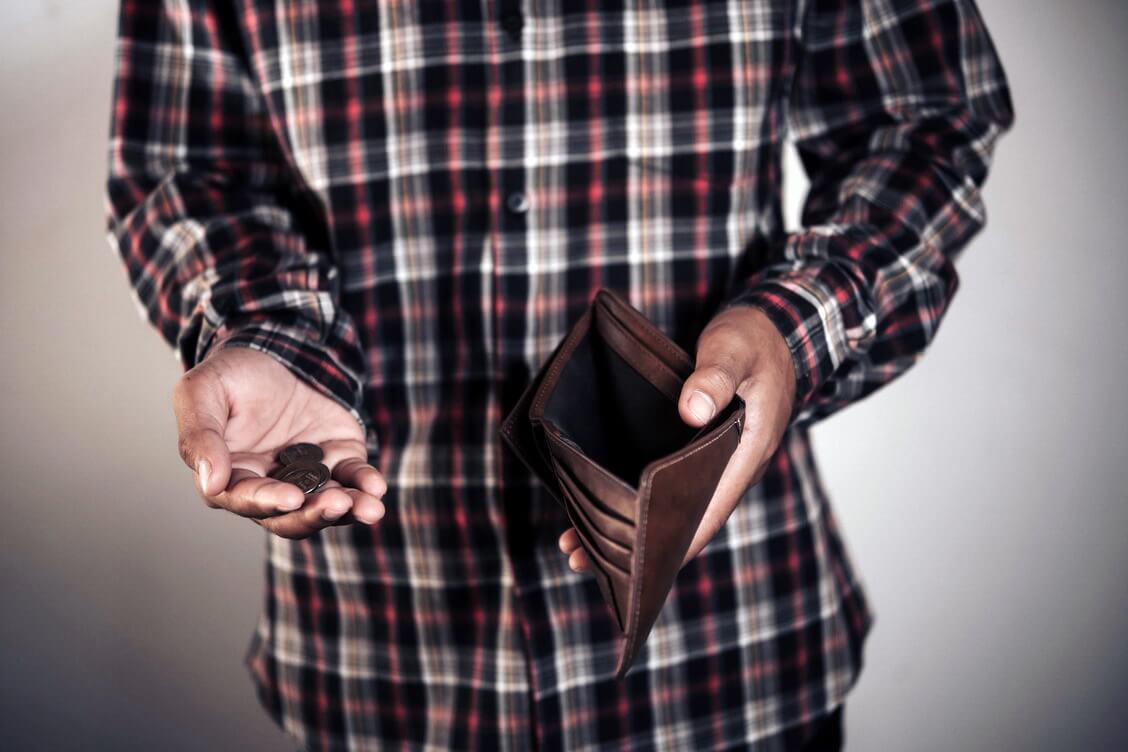
На расширенном совещании с банкирами 9 сентября Александр Лукашенко обозначил ряд новых требований к финансовому сектору. Причина проста: на фоне серьезных проблем в экономике государство ищет деньги везде, где можно, и банки здесь выглядят особенно заманчиво.
Неизвестно, что хуже для белорусского бизнеса — когда у него нет денег или когда они есть. Банков это тоже касается. Если прибыль водится, то она возбуждает аппетиты властей.
Кредитовать кого скажут
Первый сигнал банкам: кредитовать то, что приоритетно для государства. Лукашенко прямо заявил, что финансирование экономики — задача, которую белорусские банки решают недостаточно. Их призвали усилить “кредитование эффективных инвестиционных проектов, имеющих высокий экспортный потенциал, направленных на импортозамещение или развитие регионов“.
Падение доли банковских кредитов в инвестициях (с 27% в 2014-м до 12% в 2024 году) власти воспринимают как упущение, которое надо срочно исправлять.
Однако банкиров, по большому счету, не нужно уговаривать финансировать эффективные проекты. Они и так не отворачиваются от бизнеса, который приходит за деньгами под реально прибыльное дело.
Проблема в другом: таких проектов слишком мало. А если речь идет о крупных инициативах, особенно государственных, то их окупаемость вызывает большие вопросы.
Таким образом, банки сегодня обязаны уже не просто финансировать бизнес, а еще и наставлять клиентов, где урезать расходы и как вести дела правильно. В ход идут и полузабытые рецепты вроде создания финансово-промышленных групп — чтобы интегрировать банковский и промышленный капиталы ради инвестиций.
Если слабые колхозы уже присоединяли к еще дышащим заводам, то теперь эта логика развивается: почему бы проблемные предприятия не подцепить к работающим банкам.
Иными словами, государство ищет любые механизмы, чтобы выкачать банковские деньги в реальный сектор, не считаясь с рыночными рисками. Для чиновников такая схема удобна: если предприятие продолжит оставаться убыточным, то виноваты уже не управленцы, а банки. С них и спрос.
Зачем Лукашенко крипта
Второе требование властей к банкам — увеличить долю безналичных расчетов и продвигать финансовую цифровизацию максимально быстрыми темпами. Официально это подается как забота о технологичном будущем: Нацбанк заявляет о планах к 2030 году довести долю безналичного оборота в розничной торговле до 70%.
Лукашенко требует активнее внедрять современные цифровые банковские технологии — от платежей по QR-кодам до системы мгновенных платежей уже к концу года.
Но за этой риторикой явно просматривается и другая мотивировка — тотальный контроль над потоками денег. Недаром подчеркивается, что цифровизация должна приносить “реальный экономический эффект“ — читай, давать государству возможность видеть и направлять каждую копейку.
Особое место в планах занимает цифровой рубль. Идея цифровой валюты неожиданно стала любимым детищем чиновников: ее все активнее лоббируют на самом высоком уровне. Председатель Нацбанка Роман Головченко на том же совещании объявил, что уже в 2026 году будут готовы нормативная база и программное обеспечение для полноценного запуска белорусского цифрового рубля.
Но и тут главная ценность цифровой валюты для властей — в том, чтобы отслеживать путь денег от казны до конечного получателя. Не удивительно, что эта идея горячо поддерживается — ведь максимальная прозрачность транзакций сулит максимальный контроль. Если каждую бюджетную копейку можно отследить вплоть до покупки бабушкой пирожка по карте, то для государства это идеальная система.
Но вопрос шире. Власти готовы осваивать даже криптовалютные и прочие серые зоны финансов. В условиях санкций Беларусь ищет не только возможности сбыта товаров на экспорт, но и способы получать за них выручку так, чтобы эти расчеты не проходили под контролем западных банков.
Сегодня, по сути, глобально единых криптоправил нет, и Беларусь хочет использовать ситуацию в своих интересах — направляя финансовую активность в обход традиционных каналов. Недаром среди альтернативных механизмов расчетов Лукашенко упомянул и криптовалюты.
Таким образом, новая цифровизация по-белорусски — это не столько про удобство для клиента, сколько про обход финансовых санкций и новые инструменты контроля за движением денег.
Цены — стоп! Банки против инфляции
Еще одна болевая для властей точка — рост цен, с которым теперь пытаются бороться и с помощью банковской системы.
По официальным данным, инфляция уже в 1,5–2 раза превышает целевой ориентир, и это вызывает серьезную обеспокоенность на самом верху. Лукашенко потребовал срочно переломить тенденцию растущей инфляции. Причем делать это, как водится, снова будут административными методами.
Такая политика выглядит как попытка исправить ошибки прежнего ручного вмешательства новым. Власти сами создали инфляционный навес. Но когда он начал опускаться на голову экономики, оказалось, что бороться с проблемами нужно-таки рыночными мерами. Впрочем, как только рынок начал исправлять дисбалансы, чиновники вновь принялись вмешиваться нерыночными способами.
По всей видимости, вера в то, что экономику можно настроить вручную, по-прежнему преобладает над доверием к рынку — последний в белорусской модели считается скорее врагом, чем союзником.
Вот поэтому и банкирам спускаются указания сдерживать инфляцию любой ценой, фактически подменяя собой здоровые рыночные механизмы.
Покупать то, что скажут
Еще одна инициатива — стимулировать спрос на отечественные товары за счет расширения потребительского кредитования. Речь о том, чтобы белорусские семьи чаще брали кредиты именно на продукцию местного производства. Председатель Нацбанка прямо заявил о цели минимум вдвое увеличить долю выдачи потребкредитов на товары отечественных производителей к концу пятилетки.
По сути, власть вновь делает ставку на административное продвижение белорусского продукта. Вместо того чтобы повышать конкурентоспособность отечественных товаров — качеством, ценой, маркетингом, включают механизм льготного кредитного “втюхивания“.
Однако такая политика лишь закрепляет неэффективность: предприятиям не нужно улучшать товар, если государство все равно обеспечит сбыт через дешевые кредиты населению.
А прибыль — не ваша
Наконец, самый показательный тезис совещания: прибыль, заработанная банками, не должна рассматриваться ими как собственная. Если раньше подобные идеи высказывались кулуарно, то теперь их объявляют во всеуслышание.
Лукашенко открыто возмутился, что банковская прибыль “порой используется не на те цели“, и заявил, что эти деньги обязаны возвращаться в экономику. В очередной раз власть фактически дает понять: заработанные банками средства тоже в распоряжении чиновника.
Впрочем, какую долю сочли “лишней“ и каким способом изымают — открыто не сообщается. Но тут есть еще важный момент: в секторе доминируют структуры с российским капиталом, и вопрос, согласятся ли их владельцы так легко расстаться с прибылями, остается открытым.
Российские банкиры умеют считать деньги и защищать свои интересы. Просто так отдать заработанное в белорусский бюджет они вряд ли пожелают — особенно учитывая, что и в российской экономике дела идут не очень.
У Минска рычагов давления на Москву немного, поэтому в схватке за банковские “излишки“ силы сторон неравны. Вероятно, белорусским властям придется ограничиться теми финансовыми ресурсами, до которых они могут дотянуться административно — прежде всего в госбанках.
В итоге белорусским банкам фактически предписывается стать кошельками государства и двигаться в русле политики ручного управления.
Они должны стать послушным инструментом: кредитовать по указу, внедрять технологии для финансового контроля, сдерживать инфляцию любой ценой, стимулировать спрос на правильные товары и более щедро делиться прибылью.
Такой режим ручного управления, безусловно, снизит самостоятельность и эффективность банковского сектора. Но для властей важнее заткнуть дыры в экономике любыми средствами.