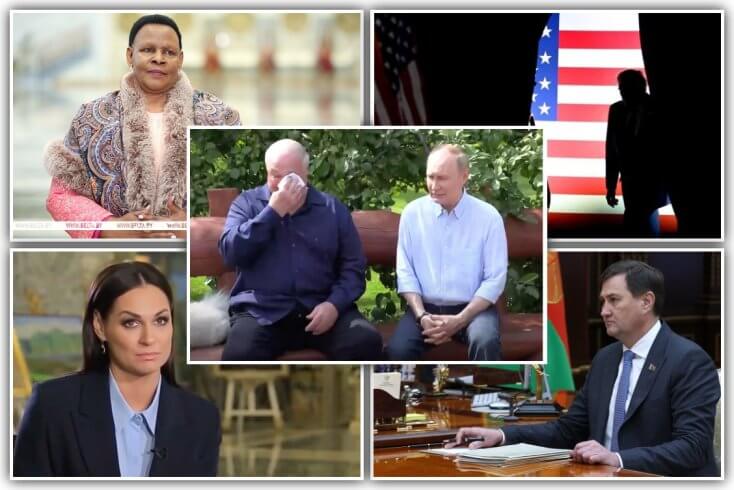Опубликовано на открытой версии “Позірку“ 5 июня 2024 года в 17:49

Белорусская государственная пропаганда часто представляет страну социальным государством, где равенство между людьми является ключевым моментом и едва ли не главным достижением власти. Эта картина часто рисуется на контрасте с соседними странами, где, как утверждается, все значительно хуже. Однако на деле ситуация с неравенством в Беларуси далеко не так однозначна.
Что показывает коэффициент Джини
По существу, равенство понимается действующей властью так, как это выглядело в советское время. А тогда это было формальное равенство небогатых.
“Мы же делали все, чтобы не допустить расслоения общества, чрезмерного расслоения на бедных и богатых. Пусть не каждый это понимает, не все принимают, но мы делали то, что обещали народу“, — заявил Лукашенко на VII Всебелорусском народном собрании в апреле, говоря о достижениях за время своего руководства страной.
В нашем случае хотя уровень жизни большинства населения остается по мировым меркам невысоким, но расслоение, если ориентироваться на статистику, действительно невелико. Сейчас доходы граждан растут, но страна по-прежнему заметно отстает по уровню заработков от большинства соседей и даже партнеров по ЕАЭС.
Тем не менее статистические данные подтверждают, что Беларусь — в числе мировых лидеров по уровню равенства доходов.
Согласно данным Белстата, коэффициент Джини, измеряющий степень экономического неравенства, для нашей страны в 2023 году составил всего 0,28, что значительно ниже, чем в большинстве европейских государств. А по данным Всемирного банка, в 2020 году Беларусь по равенству доходов опережали только Словакия и Словения.
Чего не учитывает статистика
Однако такая статистика может быть обманчивой. Во-первых, она измеряет доходы, а не общее состояние людей, которое может включать, например, недвижимость, акции, облигации и прочие блага.
Во-вторых, методология не учитывает многих вещей, характерных для Беларуси, когда не все можно выразить в терминах дохода.
Это напоминает советскую модель, когда партийные чиновники официально имели не слишком большие оклады, но могли получать премии в конверте. К тому же их доступ к ресурсам был несравнимо большим. Что выражалось, например, в наличии закрытых от посторонних глаз продуктовых и товарных спецраспределителей, медучреждений, пансионатов, возможностей выехать за рубеж (особенно ценились поездки в “загнивающие“ страны) — в общем, всего того, что входило в широкий круг привилегий, именовашихся “блатом“ советской номенклатуры.
Так и в Беларуси далеко не все аспекты социального неравенства можно учесть общепринятыми методами. Например, возможности расширить собственный бизнес, доступ к дешевым кредитным ресурсам и льготной недвижимости или свобода работы с зарубежными партнерами без оглядки на силовые ведомства. В результате статистика показывает, что разбежка в доходах населения якобы невелика, но на практике “некоторые более равны, чем другие“.
Примечательно, что Беларусь входит в число стран, где население, вопреки официальным статистическим данным, оценивает неравенство как высокое. По результатам опроса Chatham House, проведенного в ноябре прошлого года, 64% белорусских респондентов полностью или скорее согласны с утверждением, что различие доходов между богатыми и бедными в Беларуси слишком большое.
Это не удивительно: согласно актуальным исследованиям, в странах с формально низким уровнем неравенства общество часто имеет противоположное мнение на этот счет.
Одни — за уравниловку, другие — за рынок
Среди белорусов, вероятно, нет консенсуса относительно того, каким должно быть неравенство в обществе.
Предполагаю, например, что мнения, вероятно, сильно разделятся при такой гипотетической постановке вопроса: 1) вы и ваш сосед в перспективе получаете более-менее одинаковые заработки, как и сейчас; 2) вы в будущем получаете в два раза больше, а ваш сосед — в четыре раза больше.
Хотя второй вариант логически и математически выгоднее для людей и общества в целом, далеко не факт, что большинство его предпочтет. Впрочем, взгляды белорусов в этом плане эволюционируют.
Одной из основ неписаного социального контракта белорусской власти с народом в 90-х годах было то, что общество мирится с низким уровнем жизни, но предпочитает жить спокойно, без потрясений и роста неравенства доходов. Взамен большинство готово было согласиться на относительно низкую, но стабильную заработную плату.
Возможно, дефицит 80-х, разруха 90-х и кризис безопасности в соседних странах стали слишком травмирующим опытом и породили страхи людей перед изменениями. Однако по мере распространения рыночных отношений даже в такой противоречивой экономике, как белорусская, появился класс собственников, богатых людей.
В России это стало очень заметно, но в Беларуси демонстративное потребление не приветствовалось ни населением, ни бизнесом. Однако это не отменяло самого факта расслоения общества, наличия неравенства.
Еще одно предположение заключается в том, что более молодые поколения белорусов, вероятно, имеют иные представления о неравенстве и его природе, чем старшие, и в целом готовы мириться с неравенством в значительно большей степени.
Молодежь рассматривает сам факт неравенства как нормальный, естественный, а возможно даже необходимый для здорового общества и экономики. Эти представления основываются на личном мнении автора и опыте преподавания, который позволял оценивать различные поколения молодежи и трансформацию их ценностей со временем.
Если оба предположения верны, то получается, что в отношении к неравенству отражается одна из важных проблем белорусского общества — ценностные разломы.
Одни продолжают разделять советскую парадигму равенства бедных, другие готовы уживаться с неравенством рыночной постсоветской реальности и даже хотят больше рынка, как показывают, в частности, опросы World Values Survey.
Причем с каждым годом этот ценностный разлом усиливается. Об этом можно судить по тому, как страна проходила через пандемию ковида и какие травмы общество получило от социально-политического кризиса 2020 года.
Так, в авангарде протеста 2020 года были состоятельные люди, которые боролись за свои права и права других, в то время как многие рабочие не были готовы отказаться от иллюзии стабильности. И скорее всего, вольно или невольно поддерживали принцип равенства бедных.
Старый социальный контракт теряет сторонников
Однако о том, что будущее за переменами, говорит, в частности, следующий факт. При такой архитектуре отношений в стране основными сторонниками стабильности, по идее, должны быть бюджетники, например врачи и учителя. Но сейчас налицо острый дефицит кадров в этих сферах.
То есть многие представители этих профессий ищут лучшей жизни в других областях или странах. А значит — отлично понимают бесперспективность выбора в пользу того равенства, которое навязывает “социально ориентированная рыночная модель“ белорусского образца.
Границы пока относительно открыты. К тому же слишком очевидные различия с соседними странами, которые выбрали иной путь развития общества, экономики и политической сферы, в том числе с иными представлениями о неравенстве, не могут быть сокрыты никакими пропагандистскими нарративами.
Уровень жизни и доходов в странах Восточной Европы, таких как Польша и Литва, значительно вырос за последние десятилетия. Притом что уровень неравенства там выше, чем в Беларуси.
Но даже те, кто, казалось бы, не вошел в число счастливчиков, оказавшихся в верхней части пирамиды доходов в той же Литве, сейчас более состоятельны, чем аналогичные по группе доходов жители Беларуси.
Например, в Литве доход 25% жителей с наименьшими заработками с 2018 по 2022 увеличился вдвое — с 350 до 720 евро после вычета налогов. В то время как за те же пять лет средний доход 25% занятых с наименьшим заработками в Беларуси вырос менее чем в полтора раза — со 160 до 230 евро.

Таким образом, несмотря на официальные заявления и статистические данные о низком уровне неравенства в Беларуси, реальная ситуация гораздо сложнее и многограннее.
При этом авторы исследования Chatham House, проведенного в феврале 2024 года, констатируют “отход белорусов от принципов государственного экономического патернализма и идеи отказа от части гражданских свобод в пользу “политической стабильности“ — именно на этих идеях строился социальный контракт в прошлом“.
Выходит, общество постепенно осознает, что равенство бедных не является тем идеалом, к которому стоит стремиться. И для устойчивого развития необходимо активнее перенимать рыночные механизмы, обеспечить иное распределение благ, пусть даже оно окажется менее равномерным.