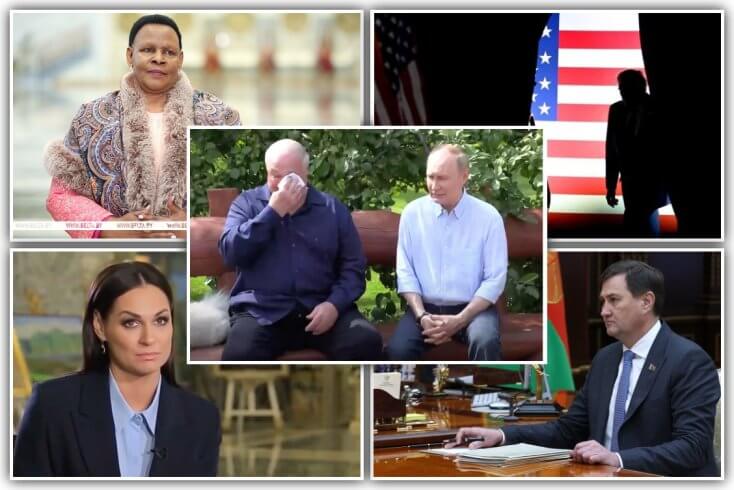Опубликовано на открытой версии “Позірку“ 14 февраля 2025 года в 15:45

Александра Лукашенко волнует не только собственная судьба, но и сохранение своего политического наследия. Чтобы созданная им социальная модель не развалилась после его ухода. А это большая проблема, поскольку в условиях ярко выраженного персоналистского режима все завязано на фигуру властителя. И дилемма тут такова: делать ставку, на кадры, на людей, на преемника — либо на институты?
Тихие “безвыборы“ породили у правителя эйфорию
Президентская кампания 2025 года закончилась для властей в целом успешно. Разработанный сценарий был до конца выдержан. Протестов, которых так боялись, не случилось. Правда, на Западе выборы не признали.
Лукашенко не прячет своей эйфории. 4 февраля на встрече с доверенными лицами он заявил об “ошеломляющей поддержке“, которой “не было в истории“: “Считайте, за 90% населения нас однозначно поддерживает. <…> Они (противники режима. — В.К.) рот раскрывши до сих пор ходят и думают, как это так возможно“.
На встрече с представителями религиозных конфессий 10 февраля правитель продолжил тему: “Мы провели выборы так, как не проводят нигде. Я мечтал об этом, и это случилось — тихо, спокойно“.
Сколько в этих словах сознательного пиара, а сколько — искренней уверенности в “ошеломляющей поддержке“? Считает ли Лукашенко, что вновь стал “народным президентом“, каким себя позиционировал себя в 1990–2000 годах?
Думаю, все же у него вряд ли есть какие-то иллюзии относительно народной любви. В противном случае правитель прекратил бы политические репрессии и освободил политзаключенных. То, что он называет тихими и спокойными выборами, было достигнуто ценой выдворения за границу около полумиллиона белорусов, десятки тысяч прошли через тюрьмы.
Что означают разговоры о смене поколений?
В любом случае с этими выборами какая-то страница в истории страны перевернута, Лукашенко остался у власти. Но что дальше, что со всем этим теперь делать?
Вроде бы можно спокойно сидеть на троне и наслаждаться счастливой старостью, вкушать плоды жизни. Однако как-то не получается. Терзают смутные сомнения, гложут мысли о будущем.
Эксперты почти единодушны в том, что в предстоящую пятилетку произойдет пресловутый транзит власти. И гадают, кого Лукашенко выберет преемником. Тем более что и сам он раз за разом повторяет мысль о предстоящей “смене поколений“.
Здесь важно отметить, что ко всем заявлениям правителя о грядущих переменах нужно относиться скептически. Сколько раз он говорил, что “наелся власти“, хочет уйти, не будет больше баллотироваться на пост президента, не собирается до смерти держаться за кресло “посиневшими пальцами“.
Пытаться угадать его предстоящие шаги — дело неблагодарное. Скорее всего, он сам пока не имеет не то что четкого плана, а даже ясных представлений относительно будущей власти. Мы видим лишь какие-то сумбурные движения, шаги на ощупь, причем в разные стороны.
Понятно, что Лукашенко озабочен не только собственной судьбой, но и тем, как сохранить свое политическое наследие. Чтобы после его ухода созданная им социальная модель не развалилась. А это большая проблема, ведь при ярко выраженном персоналистском режиме все завязано на фигуру правителя.
Отсюда мучительные размышления о том, что делать, что еще можно придумать. Того, что оппозиция политически ликвидирована, недостаточно.
Делать ставку на преемника или на институты?
И дилемма тут, по большому счету, понятна. Кто может гарантировать преемственность, на что делать ставку: на кадры, людей, преемника — либо на институты?
В России в моменты транзита власти делалась ставка именно на людей. Борис Ельцин перед своим уходом с поста президента не стал менять конституцию или придумывать какие-то институциональные страховочные механизмы. Он долго и мучительно искал фигуру, которой можно было бы доверить свое политическое наследие. В 1999 году Ельцин несколько раз менял премьер-министров, пока не остановился на Владимире Путине, которому потом и доверил высший пост.
Первый российский президент считал, что не ошибся. Преемник гарантировал, что не тронет “семью“. Ельцин не дожил до той поры, когда Путин развернул политику России на 180 градусов, порвав с политикой предшественника.
Кстати, сам Путин, отбыв два президентских срока, тоже не стал менять конституцию под себя, а сделал ставку на послушного и управляемого преемника Дмитрия Медведева. Тот четыре года отбыл на должности президента, храня место для возвращения своего патрона. И все получилось, операция прошла как по маслу.
Казалось бы, вот он, пример для подражания. Ищи надежного преемника, и все будет тип-топ.
Но тут Лукашенко насторожил неудачный опыт Казахстана. Тамошний правитель Нурсултан Назарбаев подправил под себя конституцию и законы, создал институциональные гарантии и при этом выбрал надежного, как он считал, преемника Касым-Жомарта Токаева. Что из этого получилось, всем известно. И преемник подвел, и все институциональные гарантии не помогли. Не сработало ни одно, ни другое.
Пока — лишь фонтан смутных идей
Именно поэтому Лукашенко теперь в мучительных раздумьях. Судя по всему, никому из окружения он не верит. Поэтому все же пытается делать ставку на институты, большие и маленькие.
Самый главный институт — это Всебелорусское народное собрание (ВНС). Предполагалось, что Лукашенко, возглавив эту структуру, сможет контролировать следующего президента. Это такой параллельный орган власти, призванный стать страховочным механизмом на случай, если правитель решит покинуть президентский пост.

Но Лукашенко передумал уходить с этого поста. Он просто занял еще одно кресло, возглавив и ВНС. И теперь возник вопрос: что делать с этим институтом, куда его пристроить, чтобы не мешал, не путался под ногами? И глава режима ничего лучшего не придумал, чем “заморозить“ ВНС, превратить его в полностью декоративную конструкцию.
Однако поиск других страховочных механизмов продолжается. Лукашенко просто фонтанирует идеями.
Впервые в истории на встрече с доверенными лицами он объявил о создании комиссии, которая должна внести предложения по формированию нового правительства.
“Надо создать комиссию из высших должностных лиц. <…> Надо сейчас посмотреть по списку, начиная от премьер-министра до руководителя концерна и губернаторов. На этой комиссии [глава Совета Республики Наталья] Кочанова, [председатель Палаты представителей Игорь] Сергеенко, генеральный прокурор и так далее — вот эта верхушка“, — сказал Лукашенко.
И пояснил: “Хотелось бы, чтобы вы свои предложения внесли, ваше мнение мы рассмотрим при принятии решений. <…> Мне хотелось бы, чтобы не один я там росчерком пера это все делал и не по той схеме, как это обычно у нас принято“.
Думаю, это все же не начало перехода к коллективному руководству, как предположили некоторые комментаторы, а своеобразная игра.
Смысл ее в том, чтобы переложить ответственность за предстоящие экономические проблемы (а экономика уже замедляется) на ближайшее окружение. Дескать, не я, а вы выбирали правительство. Плюс — спровоцировать в номенклатурной среде искусственный конфликт на почве борьбы за правительственные должности. Что называется, разделяй и властвуй.
Далее, на встрече с представителями религиозных конфессий Лукашенко заговорил о создании каких-то новых религиозных структур, смысл которых не до конца понятен.
Он заявил: “Я предлагаю (и обещаю, если вы примите решение): мы должны нашим религиям, которые у нас существуют, создать соответствующие центры. <…> Понимаете, храмов много. Но должен быть наиважнейший храм, святыня, куда будут приходить люди не только из Беларуси, не только наши соседи, но и из дальнего зарубежья“.
Можно предположить, что Лукашенко хотел бы иметь в религиозных организациях такую же иерархическую структуру, как исполнительная вертикаль в государственном управлении. Чтобы проще было их контролировать.
Еще одна новация. Готовится указ, призванный расширить полномочия председателей исполкомов в решении кадровых вопросов (в том числе и в сфере частного бизнеса), в части силовых структур.
Таким образом, правитель стремится внести изменения в работу политических институтов. Вряд ли эти косметические новации на что-то существенно повлияют. Но, как он считает, надо что-то делать. Вот и пытается, подходя с разных сторон. Для самоуспокоения.